Дополнительные материалы по Ирэне Бриннер
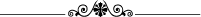
Что я помню
(Из книги воспоминаний Ирэны Бриннер)
Владивосток, красивый город, раскинувшийся на многочисленных холмах и с двух сторон окруженный водой. Владивосток – моя родина, которую я вспоминаю с любовью и нежностью, но это такое далекое воспоминание…
Моя семья. Мое раннее детство. 1917.
Мои родные в начале 19-го века были среди основателей Владивостока. Юлий Иванович Бринер, дед со стороны отца, почетный гражданин Владивостока, был женат на бурятке, ее звали Наталья Иосифовна Куркутова. У них было 7 детей. Один умер во младенчестве. Осталось три девочки и три мальчика. Мой дед был невысокий худощавый мужчина со светлыми или седыми волосами и усами; он был добр и приветлив. Бабка моя, Бабуся, как мы ее звали, была самой злобной женщиной на свете. Казалось, главным удовольствием для нее было делать жизнь ближних как можно более несносной. Мой отец, Феликс, был самым младшим из братьев.
Мой дедушка со стороны матери Дмитрий Ефграфович Благовидов был врачом, бабушка Анна Тимофеевна Киреева вела дом. Оба были русские. У них было две дочери, Мария и Вера – моя мать. Мария была певица, она закончила консерваторию в Петрограде. Моя матушка в возрасте 24 лет получила диплом врача. Свою практику она начала в качестве психиатра. Кроме того она отлично играла на фортепиано. Благовидовы определенно принадлежали к интеллигенции. Музыка была очень важна в жизни обеих сестер и сопровождала их до конца.
Мой отец был мужчина среднего роста со светло-русыми волосами. Человек он был тихий и скромный, и настолько добрый, что желал помочь всем. У него был прекрасный тенор и он обожал петь…
Феликс и Вера знали друг друга еще подростками во Владивостоке, но сблизились во время учебы в Петрограде.
Это было начало русской революции… Помню, как отец рассказывал, как во время одного из митингов он пытался стащить Ленина с трибуны.
Я родилась во Владивостоке 1 декабря 1917 года, недоношенной, семи с половиной месяцев. Мы жили на Алеутской, главной улице Владивостока. Бриннеры владели там тремя домами. В том, что выходил непосредственно на улицу, располагалась квартира и контора моего деда. Я помню из смутно, потому что Бабуся ненавидела всех Благовидовых, и мы были там нечастыми гостями.
С Борисом и Марией мы жили в одной квартире. Там я провела первые семь лет жизни.
Особым событием было Рождество. Нам , детям, говорили – елку приносит и украшает Дед Мороз. Огромная красавица – ель доставала до потолка. Каждая веточка была украшена изящными игрушками. Все наши кузены и маленькие друзья в этот день приходили к нам в гости. Подарки под елку не клались, так как их Дед Мороз приносил в мешке. Каждый из нас должен был представить какой-нибудь номер, чтобы получить подарок. Моему кузену Полю было около 3-х лет, ему надо было прочитать стишок что-то вроде «Тили-бом, тили-бом – загорелся кошкин дом». Бедняжка совершенно растерялся. Дрожащим голосом, со слезами на глазах, он все повторял бесконечный «тили-бом», но остального так и не осилил. Когда наконец пришел мой черед, я спела песенку, и усевшись на колени к Деду Морозу, прикоснулась к его лицу…
Помню, пальцы мои ощутили грубую твердую поверхность, я этого не ожидала. Я была вне себя: «Ты не настоящий! – проревела я своим баском: - У тебя лицо картонное!»
Вступление красных во Владивосток. 1921.
Во Владивостоке была эпидемия чумы. Мама все время проводила в больнице. На город надвигались красные. Порядка не было. Всевозможные преступные элементы пользовались этой ситуацией. Нам детям не разрешали одним выходить из дому, даже в сад и во двор. Нашим родителям поступали угрозы, что нас выкрадут и потребуют выкуп.
Мой отец, как офицер царской армии служил у Колчака. Французы и чехословаки предали генерала и выдали его большевикам. Отец после этого стал служить у другого Белого генерала Каппеля, который вел остатки Белой армии через сибирскую тайгу пешим маршем. Марш получил название «Ледовый поход». Выжить в
Том походе смогли немногие. Нам повезло, что наш отец вернулся к нам живым. Изможденный, с обмороженными ногами, он был счастлив оказаться дома в кругу семьи.
По мере приближения большевиков неопределенность становилась пугающей. По одному из слухов они убивали детей, разбивая им голову о стену. Правда это было или нет – мы были готовы к любому повороту событий: мама принесла достаточно яда, чтобы избавить от страданий всякого, кто пожелал бы. Однако, передача власти произошла без кровопролития.
Большевики, наконец, пришли 27 августа 1922 года. Поскольку их армия понесла большие потери, мимо нашего дома двигались бесконечные похоронные процессии с пением «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Под звуки духового оркестра несли красные флаги, красные гробы. На кладбище, куда мы часто ходили гулять, появились уродливые красные обелиски с красными звездами на макушках.
Вот что я помню о начале коммунизма. Мне было четыре года.
Борис бросает семью.
Мы переезжаем на 19-ю. версту. 1924 г.
В 1924 году нашу семью потрясла настоящая трагедия. Маруся и Борис считались образцовой парой. Они так любили друг друга и у них были такие чудные дети, что трудно было себе представить, чтобы что-то не заладилось, но это произошло.
Борис поехал в Москву по делам и там встретил Катерину Корнакову, актрису студии Станиславского. Они были знакомы с детства, но на этот раз влюбились друг в друга. (Борис забыл, что не позволял жене закончить оперный класс в консерватории, потому что не хотел, чтобы она была актрисой). Он развелся с Марусей без ее согласия, что было возможно благодаря хаосу, созданному русской революцией. У меня до сей поры хранится его циничное письмо, в котором говорится, какая Катерина чудесная, и что Маруся должна с ней познакомиться, чтобы понять, почему он влюбился в эту необыкновенную женщину. Для моей бедной тетушки это был удар, от которого она так и не оправилась. Человек, которого она боготворила, которому доверяла, отец ее детей, предал ее. Это было трудно перенести. Помню, как она металась по комнате и стонала: «Как больно! Как больно».
Мне было 6 лет от роду, но я все равно чувствовала, как глубоко ранил ее человек, которого она так сильно любила. Эта боль осталась с ней на всю жизнь. У нее была возможность выйти замуж вторично за известного юриста очень милого человека, но она этого не сделала. Думаю, потому что не хотела заставлять детей приноравливаться к новому отцу.
К несчастью семья Бринеров стала но сторону Бориса, и Бабуся приложила все усилия чтобы отравить Марусе жизнь. Тогда мы решили переехать на 19-ю версту, за город. Это было прекрасное имение с большим домом, половину которого занимали Маруся с детьми, во второй жили мы, а Баига, как обычно, жила где-то посередине. Вокруг был большой сад с двумя лесистыми оврагами, ручьем, теннисными кортами, цветочными клумбами; двор, где у нас жили куры, коровы, коза и наш чудесный цепной пес Хохлик, норвежская лайка, свирепый с чужаками, но ласковый с нами.
День начинасля с того, что мои родители уезжали в город; Отец в свою контору, а Мама в лабораторию, где работала бакториологом (она поменяла работу, чтобы больше времени проводить со мной, пока я была очень мала). Я терпеть не могла эти моменты и выражала свое недовольство недвусмысленно: пока шли сборы, я прогуливалась возле дома, и едва Мама или Отец приближались к окну, разражалась громким, с жалобными всхлипами, ревом. Я все надеялась, что они пожалеют меня и никуда не поедут – но этого ни разу не произошло. Самое смешное заключалось в том, что, проходя мимо родительских окон, я рыдала, а под окном Маруси вела себя тихо. Как-то она, высунувшись из окна, спросила меня: «Иринуся, почему ты не плачешь?» «Для тебя плакать незачем» - отвечала я, зная, что мою тетку не проведешь.
Нам детям чудесно жилось за городом. Заросшая лесом овражистая местность была создана для игр. Над одним из оврагов толстое дерево росло горизонтально, и мы могли сидеть на нем без опаски. Оно было не высоко над землей. Мы называли его «домик».
В округе была масса цветов, мы собирали их, чтобы делать букеты и плести венки. По весне было очень весело наблюдать, как тает снег. Гроздьями свисали сосульки – мне нравилось воображать, что это конфеты и сосать их как леденцы. Еще сосульки напоминали мне драгоценные камни, сверкающие на солнце. А потом из под снега начинали пробиваться цветы. Первыми появлялись подснежники – их прекрасные золотые лепестки были такими яркими, что казались лакированными. Был еще цветочек, который назывался недотрога, потому, что едва вы прикасались, как он увядал. Летом высыпали разнообразные ягоды, а с началом осени грибы.
Вскоре после переезда произошла невероятная вещь – с собой мы взяли нашу черную корову Дуньку, но через несколько дней обнаружили, что наша рыжая корова пропала с нашего владивостокского подворья. Переезжали мы зимой, и подводы с нашим скарбом с курами и коровы шли по замерзшему морю. И вот этот-то путь повторила наша рыжая корова. Недели через две, она пришла к нам на 19-ю версту. Мы дети были в восторге.
Наша музыкальная жизнь была такой же оживленной, как и во Владивостоке. Приезжали друзья – музыканты, и музыка продолжала звучать у нас в доме. Дом наш всегда был полон гостей. Одно семейство навещало нас очень часто. У них было две взрослых дочери и сын Германчик, нашего возраста. Он участвовал во всех наших играх. Он был очень высокий и худенький, так что, когда мы решили сыграть пьеску, под названием «Задавили комара», ему отвели роль Комарика. Веруся было Божье коровкой, я была Мухой, а Юлий – доктором Пауком. Когда комарик падал и ломал себе крыло, доктор Паук должен был прийти с щеткой и лоханью, чтобы его вылечить. Но произошло маленькое происшествие: когда произошло несчастье с Комариком, доктора Паука нигде не оказалось. Юлий решил пойти напрямик через кусты вместо того, чтобы обогнуть их. Одна из веток разогнулась, и маленький Юлий повис на ней. Сам он слезть не мог, и пришлось ему звать на помощь. Когда его освободили из плена, он сделал вид, словно все так и было задумано. Думаю, что уже тогда в нем проснулся актер. Он никогда не сдавался и всегда владел ситуацией.
В это же время Юлий пережил первое увлечение. Как-то ему не понравилось то, что ему велела сделать его мама, и он заявил, что не станет больше жить с нами, что он любит старшую дочь нашего друга и уйдет жить к ней. Ему было 5 лет, а ей 20.
Маруся сказала: «Ладно, я помогу тебе собрать вещи.» Она взяла чемодан, положила туда его пижаму, рубашку, ночной горшок, отнесла это к воротам, поцеловала его на прощание, закрыла калитку и ушла. Юлий был спокоен до этого момента. Думаю, что в звуке калитки послышалось что-то окончательное – он растерялся и заплакал. Его мать вернулась и спросила, что случилось. «Домой хочу, они далеко живут, а я есть хочу». Так закончилось его первое любовное приключение.
Летом мы занимались спортом, главным образом теннисом и плаванием. До моря было 5 минут ходьбы. Ближе к осени оно кишело медузами, некоторые из них достигали 30 см в диаметре, среди них попадались синие и красные, у них были стрекательные щупальца, но стрекались они не сильно. Были и другие, меньше сантиметра в диаметре, едва заметные в воде. Вот они жалили очень сильно, вызывая болезненные спазмы и судороги. Единственным средством облегчить симптомы были горячие ванны.
Зимой мы устраивали лыжные кроссы и катались на салазках. Чтобы править санками брали длинный шест. Как-то отец решил использовать для этой цели свою ногу и потом долго ходил с гипсом. Нам нравилось искать следы зверей на снегу. Помню, больше всего мне нравились следы зайца – две маленьких ямки спереди и одна глубокая сзади, рядом с ними всегда лежали сухие круглые катышки.
На заднем дворе у нас был ледник, очень глубокий погреб, 3 на 3 метра, стены и потолок которого были укреплены бревнами. По весне, когда лед на море начинал таять, большие куски его привозили не телегах и это помещение до половины заполняли льдом. С одной стороны была устроена лестница и дверь. Дверь для изоляции была сделана из толстого дерева. Этот «холодильник» действовал все лето. Вдоль его стен были полки, уставленные банками с маринованными грибами, квашенной капустой, клюквой и ягодами. А сколько варений!
Как сейчас вижу, как моя бабушка, Баига, в длинной юбке, повязав голову платком, варит эти варенья. Все ягоды собирали мы. Особенно выделялся шиповник – чистить его было занятие не из приятных, потому что его семена покрыты колючками, и чтобы не занозить руки его чистили под водой. Зато, когда варенье было готово, все трудности, казалось, были оправданы. Нам позволялось пробовать пенку на варенье – у нее был необычайный вкус! Все что делала Баига, было необычайным. Никогда я не пила кофе вкуснее, чем из ее чашки. Помокать в ее чашку кусочек «французской» булки было особой привилегией.
У нас был двухмачтовый шлюп, и очень часто мы проводили выходные под парусом. Однажды мои родители решили оставить меня на попечение бабушки т тетки, а сами пойти на шлюпе дальше, чем обычно, на какой-то остров в Уссурийском заливе. На следующий день их отсутствия разыгрался жуткий шторм. Мы не имели понятия, где он их застал. Моя бабушка плакала – боясь что с Феликсом и Верой случилось что-то ужасной. Юлий утешал ее с присущей ему замечательной логикой.: «Что ты плачешь? Если они утонут, Иришка сможет все время спать у тебя, ты же это так любишь.»
Осень. Вылезало множество грибов. Их заготавливали на зиму, сушили, мариновали или солили. Поджаренные на сливочном масле, поданные со сметаной они были изумительно вкусны. Ходя по грибы, мы всегда срезали прекрасные осенние ветки. Самыми живописными были плети дикого винограда – огненно - красные листья и маленькие иссиня – черные ягоды. Дома мы проглаживали их через вощенную бумагу. Они не теряли своей красоты всю зиму.
Маруся с детьми переезжает в Харбин.
Я остаюсь одна.. 1927 г.
В 1927 году Маруся с детьми навсегда покинули Владивосток. Моя бабушка, Баига, уехала с ними. Верусе исполнилось 10 лет, и ей пора было идти в школу. Они отправились в Харбин, там было по крайней мере 4 хороших русских школы, начальных и средних. Средняя школа и колледж YMCA были под американским флагом, но система была позаимствована у старых русских гимназий. В эту-то школу и поступили Юлий и Вера. Для меня это было начало новой жизни – мне было 8 лет, и до той поры я ни разу не бывала одна, наша троица была неразлучна.
Временно мы переехали в квартиру на Пушкинской. Улица была вымощена крупными камнями, круглую форму которым придало естественным образом море, поэтому ездить по ней в коляске было очень неудобно. После этого мы поселились в одном из бринеровских домов на Посьетской.
У меня впервые в жизни появилась собственная спальня, она была рядом с родительской комнатой, в которой был балкон. В гостиной стояло фортепиано и множество кадок с растениями, с пальмой, филоденроном и пр. Там же стоял огромный кожаный диван и кресла. У отца было особое кресло – качалка с подставкой для книг. Папа сидел всегда в нем и порой засыпал, спрятавшись за подставкой, но его всегда выдавал храп. В задней части квартиры была комната прислуги – Николай переехал с 19-ой версты вместе с нами.
Я посещала маленькую частную школу. Ее для детей «нежелательных элементов» содержали две сестры. «Буржуйские» дети считались заразой для чистых пролетарских ребятишек. Пока продолжались занятия в этой школе, нас приходило туда пять девочек. Но примерно через год ее закрыли, и я стала заниматься дома. Моя кузина Ниника, которая вместе с моей теткой жила под нами, ходила на занятия со мной. Она переехала туда где-то через год, после того как мы поселились на Посьетской.
Оставшись в одиночестве, я заменила своих кузенов куклами. Кукол я любила весьма сильно. Для меня они были живые существа. Большие были как-бы мои дети. Маленькие же высотой сантиметров 20, их фарфора, в белых паричках, как маркизы, жили в кукольной комнате, где была мебель и утварь. Мои игры с ними напоминали оперные постановки. Куклы никогда не говорили, только пели. За этой игрой я просиживала часы. Как-то мне подарили кукольного младенца с фарфоровым личиком и тельцем набитым опилками. Я любила этого младенца, как если бы он был живой.
Еще одной воображаемой подругой было мое отражение в зеркале. Я звала его Ириной Зеркалова. С ним мы тоже не разговаривали, а пели. Наверно, для меня это было легче, более естественно петь, а не разговаривать с собой в пустой комнате.
Как обычно наши друзья собирались у нас помузицировать. Каждый вечер приходили гости. У Николая были среди них любимцы, были и те, которых он недолюбливал. С иностранных судов мы всегда могли доставать то, чего не могли достать другие, так что у нас всегда была возможность устраивать хорошее угощение. Николай был милым китайским юношей, мне нравилось сидеть у него на кухне и слушать, как он рассказывал китайские истории и сказки…
Мои родители стали брать меня на концерты, в оперу и на балет. Во Владивостоке был театр «Золотой Рог», в отношении музыки он стал моей «альма матер» Я обожала оперы, которые в этом театре давали по-русски. Я знала многие арии наизусть, особенно теноровые, поскольку их пел мой отец. Однажды мой отец принес домой радиоприемник, детекторный. С его помощью мы через наушники могли слушать оперы, которые передавали из театра.
Это было начало сталинской эры, за пределами домашнего круга жизнь была тяжелая, многих арестовывали без видимых причин и клеймили врагами народа. Разбивались семьи. Мы чувствовали себя очень незащищенными. Над нами постоянно висела угроза ареста моего отца…
С младенчества я год за годом серьезно болела. У меня была очень тяжелая форма дифтерии, и в один год я провела в постели два с половиной месяца. На дворе было рождество, и елку поставили в моей комнате. Было так чудно глядеть на мерцающие свечки. Об этой болезни я помню еще момент проветривания комнаты. Меня укутывали в одеяла и платки, так что снаружи оставались одни глаза, и открывали форточку. Не могу описать наслаждение, с которым я вдыхала этот фантастически душистый морозный воздух.
Моя мать много читала мне вслух – я была слегка дислексична, когда дело доходило до чтения. Вместе мы прочли всю русскую классику. Читали и зарубежную литературу. Помню, как мы с головой уходили в «Повесть двух городов» Диккенса, когда опасались ареста отца. У нас был собран узелок с одеждой и едой, на случай если за ним придут. Возвращаясь из оперы или концерта, мы выглядывали, не стоит ли у нашего дома машина НКВД. Это на нас очень давило. Возле нашего дома были красноармейские казармы и большой двор, в котором тренировались красноармейцы в буденовках. Каждый день, глядя на это снова и снова, я думала: неужели мне придется видеть это всю жизнь? Как мало я себе представляла, в какие разнообразные уголки со временем забросит жизнь!
Однажды Николай принес домой олененка: подозреваю, что его планировалось подать к столу. Я об этом и слышать не хотела. Я попросила отца позвонить в один из заповедников. Он обещал это сделать. А тем временем милый зверек проводил ночи на балконе, а днем навещал нас в гостиной. Здесь он гулял и жевал наши комнатные растения. Я никогда не забуду его печальные глаза. В конце концов, мне сказали, что он выпрыгнул за перила и разбился. Так закончилась моя маленькая сказка.
В 1928 году мы поехали в Харбин, навестить Марусю с семьей. Было так чудесно вновь оказаться с Верусей и Юлием! Нас повели в оперу на «Снегурочку». Для Юлия это была первая опера. А затем Веруся однажды вернулась из школы со свинкой. Через два дня заболел и Юлий. Я не могла смириться мыслью, что меня это не коснулось. Будучи дочерью врача, я знала, как передается свинка. В комнату, где они лежали, мне ходить не разрешали, поэтому мы решили, что Юлий поцелует бумажную куклу, с которой мы часто играли, и подсунет мне ее под дверь. С другой стороны двери я сделала тоже. Через два дня я воссоединилась со своими кузенами. Я была счастлива, чего нельзя было сказать о моей матери. Однажды Юлий, у которого был сильный жар, внезапно подскочил на своей кровати и запел «Постой, Снегурочка, постой»», после чего вновь рухнул на постель. Всю жизнь такие маленькие приметы выказывали в нем актера.
Когда мы вернулись во Владивосток, то обнаружили, что сталинский террор стал еще шире. Мамины коллеги были в ужасе, когда она вернулась на работу: «Как вы могли, находясь за границей всей семьей, вернуться в советский ад?» Но мы вернулись. Моему отцу было очень трудно примириться с мыслью, что возможно, придется подумать об отъезде; он обожал Россию, особенно Уссурийский край.
У нас был шлюп под названием «Ирис». Летом мы каждые выходные ходили на нем в море. Зимой море промерзало на большую глубину. Я с четырех лет каталась на коньках, потому, что на льду залива устраивался прекрасный каток. Чтобы обеспечить проход судов, лед на заливе приходилось разбивать ледоколом. Им командовал наш добрый друг, капитан Штукенберг. Его жена, врач, была ближайшей подругой моей матери. Кроме того капитан Штукенберг был одаренным художником. У них был пес, датский дог коричнево-тигровой масти огромный и красивый. Когда моя кузина Ниника оставалась у нас ночевать, а мои родители хотели пойти куда-нибудь без меня, Игой, как его звали, оставался присматривать за нами.
Мы с Ниникой были жутко влюблены в оперного тенора. Его фамилия была Бельский, он был женат на сопрано Родомской. Как-то они пришли к нам на ужин. На следующий день мама моя вошла к нам в комнату и застала нас посреди ужасной ссоры из-за стула, на котором, как мы были уверены, сидел Бельский. Мама рассмеялась и сказала: «Но стулья сегодня утром переставили, и как же вы узнаете, на каком он сидел?» Мы почувствовали себя очень глупо.
Наше бегство неминуемо. 1930-1931 гг.
В 1930 году мой отец попросил визу в Германию. У него всегда было нервное сердце, и ему необходимо было курортное лечение. В визе было отказано. Тогда мы решили поехать на Кавказ, где были прекрасные курорты на минеральных водах. Это путешествие составило важную эпоху в моей жизни.
После нашего возвращения жизнь пошла привычным чередом – музыка, занятия и пр. Нам, двум девочкам, трудно было найти естественный выход своей энергии. Ходи мы в школу с другими детьми, она нашла бы естественный выплеск, но в этой роскоши нам было отказано, и мы изобретали разные шалости. Среди наших преподавателей были те, кого мы любили и те, кого недолюбливали. Мы сидели по разные стороны старомодного письменного стола и хоть и проводили друг с другом дни напролет, испытывали потребность обмениваться корреспонденцией во время урока. Мы устроили сложную систему хитроумных приспособлений под столешницей и постоянно передавали записочки. Наш учитель математики был престарелый военный, очень достойный господин. Нам он нравился, и все же мы намазали его стул клеем, так что, когда урок закончился, он не мог встать. Не помню, чем все закончилось. Нашу учительницу литературы мы обожали и ни за что не огорчили бы, зато уж кого терпеть не могли, это представительницу от госшкол, которую послали к нам читать политграмоту и географию.
Мы прокололи себе пальцы и, намазав кровью листки бумаги, положили перед ней, потому что знали, что от вида крови ее мутит. Она бала грязнуля или, по крайней мере, выглядела таковой. Мы находили на детальной карте название какого-нибудь крохотного городка, а после просили, чтобы она показала нам его на большой, общей. Однажды, мы заставили нашу учительницу физкультуры сеять юбку, потому что не могли уяснить, почему мы должны заниматься в трусиках, а она в юбке.
Дети с улицы знали что мы «нежелательные», поэтому всегда старались нас подразнить и кидались камнями. В ответ мы плевались в них через трубочку сушеным горохом. После чего их матери приходили к моей жаловаться. Нас наказывали, но на другой же день мы опять брались за свое.
У меня в комнате лежала шкура белого медведя, как раз между моей кроватью и кушеткой, где иногда спала Ниника. У нас всегда были апельсины и мандарины с иностранных судов. После того как мы укладывались в постель, нам нравилось есть их, перекатывая друг другу по спине медведя, и постепенно там образовалась желтая полоса. В тоже время мы мечтали о разных колбасах, окороках и ветчине, которых не могли достать. Но отец всегда приносил домой маленькие коробочки с конфетами, завернутыми сперва в серебристую фольгу, а сверху еще в прозрачную цветную бумагу. Я до сих пор помню, с какой радостью я превращала эту прекрасную конфетку, а потом и обертку от нее, в драгоценную игрушку. Простейшие вещи приносили нам огромное удовольствие.
Это был конец 1930 года, репрессии приобретали угрожающий размах. Правительство обложило нашу фирму такими налогами, что становилось ясно: конец близок. Для нашей семьи это было очень трудное время – бегство стало неизбежно. Мой бедный отец с большим трудом признал его необходимость. Мама смотрела на вещи намного реальнее. Она любила выражаться сильно, и ее доводы сводились к следующему:
- Конечно же, нас обоих арестуют, а что будет с Ириной? Сначала отдадут в детский дом, а потом ей придется идти на панель, - это был очень сильный довод.
Такие дискуссии создавали очень большое напряжение в нашей семейной жизни. Но, как это обычно и бывает в жизни, случались взлеты и падения; нас навестил друг моих родителей, бывший свидетелем на их свадьбе, Шурик приехал погостить на несколько недель. Он был геологом. Мы подолгу гуляли, он был полон интересных рассказов о камнях, которые мы находили, и множеством других восхитительных историй. Я была им так очарована, что постепенно влюбилась. Мне было 12 лет. Никто об этом не знал, я же была им одержима. Когда он уезжал, и меня никто не взял на вокзал его проводить, у меня случилась истерика. Мои родители рассердились, но потом поняли что произошло. То была моя первая любовь.
Планы побега становились все реальнее. Существовало две возможности: путь пешком через горы, что было тяжело физически, и другой – морем. Папа собирался поговорить с кем-нибудь из капитанов больших судов, которые все еще работали с нашей фирмой.
Естественно, этими планами нельзя было делиться ни с кем. Даже Нинике, с которой мы проводили вместе почти все дни, я не обмолвилась ни словом. Я продолжала постоянно дарить ей какие-то вещи, которые любила, но та и не сказала почему.
Моя мама никогда не болела, и однажды я очень удивилась, засав ее в постели днем. Отец повел меня гулять и во время прогулки попытался объяснить, что моя мама ожидала ребенка, но в нашем положении это невозможно. Кто знает, может у меня был бы братик или сестренка. Но иногда от нас это не зависит.
Только две семьи знали, что происходит у нас дома: морской капитан Штукенберг, его жена, врач, лучшая подруга моей мамы, и Сергей Сергеич – врач – окулист – у нас стояло его пианино, и ему было важно в конечном итоге вернуть его. Затем мой отец решил, что не может оставить сестру, жившую этажом ниже. То была семья, где жила Ниника. У них было двое детей: Павел десяти лет, и Светлана – семи. Это создало еще один конфликт между мамой и отцом, поскольку после развода Бориса и Маруси взрослые между собою не общались. Но было ясно, что их тоже надо посвятить в дело. Только тогда Нинике было сказано о планах побега, и предложено выбирать: отправиться к родителям в Сибирь или ехать с нами. Больше она никогда не видела свою мать.
В то время в порту стояло британское суд но – «Гленифер». Папа попросил капитана подобрать нас в открытом море, когда судно будет уходить. Тот согласился, и мы начали готовиться. С собой мы ничего брать не могли. У меня как раз начались месячные, поэтому мама приготовила мне небольшой пакетик на крайний случай. Именно тогда в первые в жизни я поняла силу молитвы. Во время месячных я очень болела, меня мучали ужасные судороги. За день до отъезда я слегла. Я молилась, не переставая, прося Господа помочь нам. Я старалась лежать в очень неудобной позе. Я чувствовала. Что молитва значит больше, если мне больно, если я страдаю – тогда Боженька меня услышит. Наверное, это помогло.
ГПУ заподозрило наш побег; они дали задание одному коммунисту, жившему в нашем доме, присматривать за нами. Наш повар Николай нашел нам китайский шлюп, называемый « юлюли», с одним веслом. Хозяин лодки, согласился за хорошую суммы вывезти нас. Ему предложили выбирать: ехать с нами или взять деньги и ехать куда пожелает. Он выбрал последнее.
31 мая в пять часов утра мы вышли из дома, оставив в нем все, что было, и больше никогда его не видели. Я заглянула в то здание, когда приезжала во Владивосток в 1992 году, но Домом оно больше не было.
Мы должны были выйти из дома отдельно от моей тети Нины и ее семейства. Нам всем надлежало встретиться у шлюпа в пять часов. Погода была ужасна, дул очень сильный ветер: капитан боялся, что нашу лодку разобьет о судно волнами и ветром. Стоял туман, такой густой, что видимость была не дальше одного метра. Мы разработали план, по которому должны были сделать вид, что едем на Русский остров покупать у крестьянина козу. Таким было наше алиби. Я помню очень ясно, как мы все дальше и дальше уходили от Владивостока, как миновали маяк, называвшийся Токарева Кошка и, наконец, достигли Русского острова. Мы действительно сходили к крестьянину и договорились о покупке козы, за которой обещали заехать, когда распогодится.
Нас должны были подобрать в три часа дня. Когда мы уже сели в юлюли, мой двоюродный брат Павел сказал, что у него болит живот, и что он должен вылезти и сделать свои дела. У меня в памяти это отложилось, как смешной случай: бедный мальчишка только спустил штаны, как его отец закричал на него: «Быстрее, быстрее!» - и Павел подскочил и начал натягивать штаны. Тогда мой отец спокойно сказал:
- Не спеши., спокойно делай то, что нужно.
И Павел вернулся к тому, что так отчаянно пытался завершить. Мы вечно подначивали его после, говоря, что он оставил после себя памятник нерукотворный.
Затем мы обнаружили, что отход судна задерживается. ГПУ были так уверены, что отец воспользуется именно этим судном для побега, что обыскали его целиком, даже трюмы. Позже, один из друзей, знавший кого-то из начальства, рассказал, что когда «Гленифер» отходила, давая повторяющиеся гудки, один из «товарищей» сказал:
- Может им помощь нужна?
А другой ответил:
- Черт с ними, и так столько времени потратили, пусть сам дорогу ищет.
Это и спасло нам жизни. На судне мы почувствовали себя в безопасности, только когда пересекли советскую границу. Все было новым и странным. Я немного знала английский, но не бегло. Новые жизненные впечатления ждали нас. Судно увозило нас в Циньдао.
Я никогда не забуду этого чудесного капитана Бейкера, и его судно «Гленифер». Капитан отдал письменное распоряжение команде – он хотел один нести полную ответственность за этот заговор. Такие поступки не могут быть забыты. До самой смерти я буду благодарна этому исключительному человеку.
Альманах «Рубеж». 1995 г.
 Бринер Юлий Иванович
Бринер Юлий Иванович
 Бринер-Куркутова Наталья Иосифовна
Бринер-Куркутова Наталья Иосифовна
 Бринер Леонид Юльевич
Бринер Леонид Юльевич
 Бринер Борис Юльевич
Бринер Борис Юльевич
 Бринер Феликс Юльевич
Бринер Феликс Юльевич
 Бринер-Масленникова Маргарита Юльевна
Бринер-Масленникова Маргарита Юльевна
 Бринер-Хвицкая Мария Юльевна
Бринер-Хвицкая Мария Юльевна
 Бринер-Остроумова Нина Юльевна
Бринер-Остроумова Нина Юльевна
 Вера Бриннер
Вера Бриннер
 Юл Бриннер
Юл Бриннер
 Ирэна Бриннер
Ирэна Бриннер
 Рок Бриннер
Рок Бриннер
 Виктория Бриннер
Виктория Бриннер
 Мария и Вера
Мария и Вера Бринер-Корнакова
Бринер-Корнакова